Продолжение перевода книги Мартина Пейджа о Португалии.
Уже опубликовано:
- Предисловие и Глава 1 — От Ионы до Юлия Цезаря
- Глава 2 — Рим на берегах Атлантики
- Глава 3 — Восход и закат христианства
Халиф — Муса Ибн Нассер [1] — пересек пролив и прибыл из Северной Африки с проверкой в Иберию. Когда он нагнал передовые отряды своей армии, та ушла уже на 200 километров на север от побережья. Командующий мусульманским войском — Тарик — приветствовал Халифа, уважительно сойдя с коня. Арабские хроники утверждают, что разъяренный Халиф отхлестал Тарика кнутом в присутствии солдат, крича на него: «Как ты смел продвинуться так далеко вглубь страны без моей команды? Я приказал только совершить набег и вернуться в Африку».
Но Муса быстро оценил богатые возможности, которые открывались на новом месте. Почва здесь гораздо плодороднее, чем где-либо в средиземноморской части Африки, а климат мягкий с достаточным количеством осадков. Страна целиком обращена к Атлантике – «темному океану», как ее называли в арабском мире – чьи тайны издавна манили арабов. Иберия богата полезными ископаемыми и драгоценными камнями. Иберия богата полезными ископаемыми и драгоценными камнями. Большинство представителей правящего класса бежало из страны сразу после первой заварушки. Когда страну покинула большая часть епископов, священников и монахов, евреи оказались самой образованной группой населения; к тому же они играли важную роль в торговле и коммерции. Евреи приветствовали арабов как освободителей от антисемитизма, который проповедовала и практиковала христианская церковь. Значительное число христиан, которых церковь эксплуатировала почти также свирепо, как иудеев, было, вероятно, тоже радо видеть арабов в качестве альтернативы старому режиму.
В июне 712 года Муса высадил в Иберии войско в 18000 арабских всадников и пехотинцев. В Севилье иудеи открыли слабо охранявшиеся ворота, чтобы впустить в крепость арабов. Столица Лузитании Мерида, которой правил епископ, отчаянно сопротивлялась, но сдалась после почти года осады. На остальной территории завоевание прошло практически беcкровно. Арабы продвинулись на север Иберии, перешли Пиренеи и дошли до Тура в 200 км к югу от Парижа, где их, наконец, остановили и вынудили отступить христиане.
Принцам из рода Витицы, которые призвали мусульман, Муса даровал земельные угодья, насчитывавшие 3000 ферм, назначив их на руководящие посты в новом правительстве. Он издал указ, согласно которому простые люди, безропотно принявшие арабское владычество, могли жить в мире. Вся собственность тех, кто противился завоеванию, подлежала конфискации.
Арабы оставались в Португалии следующие 400 лет (а в Южной Испании на 250 лет дольше). Арабская цивилизация в Иберии достигла таких высот развития и процветания, каких не знала ни на Ближнем Востоке, ни в средиземноморской части Африки. Пик развития арабской цивилизации в Иберии приходится на правление в X веке сирийского рода Абд ар-Рахманов.
Основатели этой харизматической, умной и утонченной правящей династии расположили свою столицу в Кадиcе, распространяя оттуда свою власть по всей территории Иберии. Они назвали свою страну Аль-Андалуз – Андалусия, что означает «земля вандалов», ибо арабы величали так всех северных европейцев. Большинство территорий, которые сегодня образуют Португалию, на протяжении большей части мусульманской эпохи управлялось в составе трех эмиратов: Аль-Куну (сегодняшняя провинция Альгарве), Аль-Каср, в состав которого входили земли нынешней провинции Алентежу, а также регион к северу от реки Тежу, включая Лиссабон, Синтру, Сантарем, который арабы называли Аль-Балата.
Историки девятнадцатого века горячо спорили о том, что могло послужить причиной этого неожиданного завоевания. Было ли оно примером джихада – священной войны за обращение западноевропейцев в Ислам, как считал Америко Кастро, в том числе с помощью меча, если неверные противились обращению? Или это завоевание было скорее, как утверждал Ричард Конецке, воплощением желания обладать более красивой и благодатной землей, чем та, из которой вышли арабы?
Спор между этими историками основывается на едином для них заблуждении – уверенности в том, что люди руководствуются в своих действиях единым мотивом. В реальности они действуют под влиянием весьма причудливых сочетаний различных стимулов. Но сам спор имел позитивный результат в том, что пролил свет на многочисленные свидетельства, остававшиеся в тени целых 800 лет.
Арабские завоеватели были бескомпромиссны в своей приверженности Исламу. Их верность Исламу цементировалась смертной казнью для тех арабов, кто пытался «дезертировать» в другую религию, либо проявлял признаки инакомыслия. В 1862 году великий бельгийский арабист Рейнхард Дюзи опубликовал переводы протоколов шариатских судов девятого века над мусульманами, принявшими в Иберии христианство. Как правило, тех, кто совершал это преступление, казнили, публично распяв у дороги между двумя свиньями. Для сравнения скажу, что христианина, публично оскорбившего Мухаммеда или Коран, казнили без особых причуд.
Где-то в средине IX века среди христиан началось движение, члены которого называли себя «новыми зилотами» (то есть подвижниками, ревнителями веры). Как многие другие христиане по всей Европе новые зилоты были убеждены в том, что конец света придет совсем скоро – в 1000 году – когда Христос вернется на землю, чтобы держать суд. Зилоты ставили себе вполне конкретную задачу обеспечить себе преждевременный и прямой доступ на небо, минуя чистилище. У них был излюбленный метод стать угодными Христу, который заключался в том, чтобы быть обезглавленными мусульманами за публичное оскорбление Пророка Мухаммеда.
Арабским чиновникам была не по вкусу та роль, в которой их выставляли их будущие жертвы. Брат Исаак пришел в Кордову из монастыря, который находился в Табаносе. В Кордове он предстал перед ничего не подозревавшим мусульманским правителем – кади – и крикнул ему в лицо: «Ваш пророк – лжец и обманщик. Он томится в аду за то, что ввел в заблуждение столько невинных душ». Правитель хлестнул монаха по лицу. Брат Исаак ответил: «Как смеешь ты поднимать руку на подобие божье!». Кади поинтересовался: «Может, ты пьян или сошел с ума? Ты что, не понимаешь, что по закону за такие речи тебя ждет смертная казнь?» «Я в жизни не пробовал вина и знаю, что говорю, – отвечал монах – Я жажду быть приговоренным к смерти. Благословенны те, кого казнили за то, что они говорили правду, и им принадлежит царство божье».
Кади сообщил своему непосредственному начальнику – Халифу – что Исаак был явно не в своем уме, рекомендуя его помиловать. Халиф не послушал его совета. 3 июня 851 года монаха повесили вниз головой. Чтобы не допустить превращения похорон Исаака в триумфальный марш новых зилотов, его труп сожгли, а пепел бросили в реку. Новые зилоты немедленно объявили Исаака святым, приписав ему множество чудес, которые он якобы совершил до, во время и после своего «мученичества».
Священник по имени Сисенанд объявил, что во сне к нему явился Исаак, который спустился с небес, чтобы убедить его принять мученическую смерть. Проснувшись, Сисенанд направился в приемную арабского чиновника, поносил Пророка и был предан казни. Восходя на виселицу, он призвал своего дьякона – Павла – последовать его примеру. Через четыре дня Павел выполнил его наказ.
Эти мученические смерти регистрировал (зачастую с кровавыми подробностями) их современник – учитель и автор из числа новых зилотов Эвлогий Кордовский – в своей работе «Памятная книга о святых» (Memoriale Sanctorum). От имени его этого, кстати, происходит имя литературного жанра «eulogy» («эулогия» или панегирик).
Прошло всего несколько дней после казни Павла, и вот уже ученик Эвлогия по имени Санчо, науськиваемый учителем, оскорбил Пророка и был обезглавлен. Это событие дало Эвлогию материал для новой главы. Далее в книге Эвлогия рассказывается о том, как в следующую субботу еще шесть монахов из Табаноса, в том числе дядя Исаака, предстали перед правителем и, если верить Эвлогию, прокричали: «Мы подтверждаем слова наших святых братьев Исаака и Санчо. Так отомстите за вашего окаянного Пророка. Испробуйте на нас самые жестокие из ваших пыток».
Их обезглавливали.
Затем пришла очередь сестры Исаака – Марии – увидеть вещий сон. Она рассказала о нем своей подруге Флоре. Марии было предначертано воссоединиться с ее любимым братом, а Флоре соединиться с самим Иисусом. Подружки отправились к правителю и обе оскорбили Пророка. Многострадальный правитель умолял их не делать глупостей. И хотя девушки настояли на своем, он решил не приговаривать их к смерти, а бросить в застенок. Правитель послал к девушкам судью, чтобы тот попытался образумить их угрозами. Если они не отрекутся от своих слов, девственницам грозила участь, которая, как надеялись оба мусульманина, покажется им страшнее смерти – пожизненное принудительное занятие проституцией.
Правитель также попросил тех христиан, которые выступали против новых зилотов, навестить Марию и Флору в тюрьме и попытаться убедить их не приносить эту бессмысленную жертву. К несчастью доступ к узницам получил сам Эвлогий. Он не мог упустить возможность собрать материал для следующей главы, в которой две прекрасные юные девы примут мученический конец. Эвлогий распростерся у ног Марии и Флоры и с благоговейным трепетом поведал им, что по воле господней они уже излучают небесное сияние – как ангелы, а над головами у них мерцают заготовленные для них на небесах короны.
В законе нет такого наказания, как принудительная проституция. Эвлогий добился своего. Мария и Флора взошли на эшафот 24 ноября 851 года. Маловероятно, чтобы они с ликованием ждали своей казни – в отличие от Эвлогия, который ликовал за них. После казни он писал: «Господь сегодня проявил величайшую милость и даровал нам огромную радость. По моим наставлениям наши девственницы с горькими слезами добились-таки пальмы мученичества».
В конце концов арабский правитель, взбешенный выходками Эвлогия, приказал нанести ему 400 ударов плетью. Испугавшись боли, Эвлогий взмолился о легкой смерти. Арабский историк пишет, что он взвопил: «Верни мою душу Создателю. Но я не допущу, чтобы плеть рвала мою плоть в клочья».
Эвлогия обезглавили в 859 году, когда пришло его время. Позднее кости Эвлогия, как и кости нескольких других христианских «мучеников», о которых он писал, отрыли арабские торговцы и продали послам христианских королевств из Северной Европы. Там эти кости стали объектом почитания; им приписывается немало чудес.
Большинство христиан, живших под властью арабов, с отвращением наблюдало за этими событиями. В открытом письме Эвлогию, опубликованном за несколько лет до его казни, они протестовали: «Халиф разрешает нам свободно исповедовать христианскую веру, не угнетая нас. Те, кого вы зовете мучениками, на самом деле просто самоубийцы. Если бы они хоть раз открыли Евангелие, то прочли бы там: «Любите врагов ваших, … благотворите ненавидящим вас». Чем хулить Магомета, послушали бы лучше Святого Иакова: хулители царства божьего не наследуют».
Далее в письме говорится: «Мусульмане говорят нам: если бы Господь хотел доказать, что Магомет – лжепророк, и что именно Господь вдохновил этих христианских фанатиков, он творил бы с их помощью чудеса и обратил бы нас в вашу веру. Но он этого не делает. Христианство не получает ничего от этих казней, а Ислам ничего не теряет».
Рабам, которые принадлежали христианским фермерам и купцам, Ислам открывал перспективу освобождения из рабства еще при этой жизни. В Коране говорится, что освобождая раба, вы совершаете богоугодный поступок. Рабы, бежавшие из христианской общину в мусульманскую и провозгласившие в присутствии двух свидетелей, что «нет бога, кроме Аллаха, и Мухаммед пророк его», получали убежище у мусульман. Если такие беглецы соглашались изучать Коран и демонстрировали, что хотели жить в соответствии с его заветами, они получали многочисленные права, в том числа право владеть собственностью и вступать в брак.
Христиане-рабовладельцы под покровом ночи отправляли банды всадников на мусульманские территории, чтобы вернуть себе рабов. Нередко такие рейды были успешными. Многих рабов, которых не вернули себе христиане, мусульмане наделяли участками достаточного размера, чтобы выращивать на продажу фрукты, салат, овощи и лечебные травы. Земли под такие наделы были конфискованы у беглых христианских епископов.
Арабы познакомили местных жителей с ирригацией, которая стала для Европы, прежде с ней не знакомой, настоящей революцией в области сельскохозяйственных технологий. Ирригация пришла в Иберию из Александрии. Два египетских агронома, прибывших в Южную Иберию в X веке – Ибн Бассал [2] и Ибн Аввам – составили руководства, в которых адаптировали собственные знания к местным условиям. В этих работах содержатся сведения о конструкции, сооружении и работе водяных колес, насосов и акведуков, землеустройстве, животноводстве, размножении растений и культивации, консервации почв и продаже урожая.
Копии инновационных водяных колес можно увидеть и сегодня: они работают в садах у рек, например, в Томаре. В Томаре их приводят в движение воды реки Набао: колеса черпают воду из реки и выливают в ирригационные каналы. Среди растений, привезенных с Ближнего Востока, бананы, кокосовые пальмы, сахарный тростник, масличная пальма, кукуруза и рис. Арабы поощряли выращивание таких пищевых растений, как салат, лук, морковь, огурцы, яблоки, груши, виноград и фиги.
Влияние этих продуктов на диету португальцев ощущается по сей день. Медики из Северной Европы исследуют питание португальцев, ища объяснение низкой распространенности сердечнососудистых заболеваний у этого народа. Часть сохранившегося арабского наследия в Португалии – это названия многочисленных пищевых культур и орошающих их ирригационных систем, а также складов, в которых хранились продукты питания.
Модель семейных возделываемых участков, которую арабы внедрили в Иберию вместо крупных поместий итальянцев, германцев или церкви, существует и по сей день – поимо прочих городов в Синтре – хотя доход от таких участков обычно пополняется платой за работу на местных заводах, в магазинах и на строительных площадках. Наделы, как правило, интенсивно обрабатываются, виноград растет под апельсиновыми и лимонными деревьями, а цветы и салат между грядами. Правительственные агрономы жалуются, что эта система неэффективна, но пока что крестьяне отвергают любые попытки реорганизовать их в более рациональные фермерские хозяйства – подобно тому, как они не приняли новые «евро сорта» растений, сохраняя верность тем сортам, что веками выращивали их семьи. Португальцы – одни из последних европейцев, которые не сдают в этом плане своих позиций, и толпы, наводняющих пищевые рынки Португалии по выходным, доказывает, что эта консервативная практика продолжает пользоваться популярностью. Португальцы – не из тех народов, которые вернулись к практике органического фермерства: они никогда от нее не отходили!
До арабского завоевания жителями деревень и маленьких городков правили землевладельцы, в качестве главного из которых постепенно стала выступать церковь. Приходский священник превратился в сборщика грабительских налогов. Иронично, что эта тенденция была противоположна тому пути, который прошел за свою жизнь Апостол Павел. Священник выступал в роли помещика, мэра, судьи и распределителя материальной помощи, становясь – за исключением редких благородных представителей своего класса – гораздо богаче прихожан, причем за их счет.
При арабском режиме мусульмане – рожденные или обращенные в Ислам – освобождались от большинства налогов. В хрониках содержатся многочисленные протесты против миссионерской деятельности мусульман, приводившей к потере дохода церковью. Налоги при арабах были не выше тех, что взимала церковь, и их можно было платить натурой. Арабы не были заинтересованы в том, чтобы заполнять административный вакуум, образовавшийся после бегства священников. Это привело к возникновению удивительного движения «os Homen Bons» – буквально «хорошие мужчины». «Хорошие мужчины» образовывали деревенские или городские объединения, которые собирались на площадях, занимались сбором средств и организацией ремонта, ухода и других общественных работ силами добровольцев. «Хорошие мужчины» выполняли судейские функции на местах, решали местные споры и распределяли социальное обеспечение – в особенности вдовам и сиротам. Они организовывали коллективный отжим оливкового масла и вина, а также совместный маркетинг продукции среди арабских купцов. Многие сами служили католическую мессу ввиду отсутствия священников, помня ее наизусть, и устраивали крещения, свадьбы и похороны. Все молодые люди получали необходимую подготовку, и из них формировались пожарные бригады.
Ватикан признал устную традицию мессы, которая сохранилась с тех времен в Северной Португалии, как «брагский обряд» (который иногда ошибочно называют визиготским). По нему и сегодня иногда ведут богослужение. Исповедь по этому обряду более короткая и менее унизительная, чем в латинской мессе, а кубок готовился в начале литургии, а не в ее средине.
Институт «хороших мужчин» продолжает процветать в сельской Португалии. Португальские общины остаются одними из наиболее независимых и самостоятельных в западном мире – заметно более автономными, чем общины в сельских районах США, где ценности самодостаточности сохраняются больше на словах. Сегодня такие объединения называются Добровольными ассоциациями пожарников. В стране лесных пожаров их члены не получают зарплаты, но обладают великолепной профессиональной выучкой, техникой и опытом тушения пожаров. Но это лишь малая часть их функций.
Добровольной ассоциации пожарников Альмусажем, членом которой я являюсь уже несколько лет, принадлежит участок, прилегающий с одной стороны к ратушной площади. Он раз в пять превосходит размером эту площадь. На этом участке именно «хорошие мужчины», а не городской совет, содержат безопасную детскую площадку для дошкольников, библиотеку, музей, компьютерный кабинет, спорт-центр с гимнастическим залом и крытой хоккейной площадкой, вертопорт, центр юридической помощи и медицинскую клинику. Последняя предлагает услуги не только медицинских сестер первой помощи и семейных врачей, но и врачей-специалистов, которые еженедельно приезжают из Лиссабона. Недавний сбор средств завершился приобретением оборудованной по последнему слову техники кареты скорой помощи фирмы «Мерседес». Следующая кампания должна в ближайшее время увенчаться сооружением городского бассейна.
Наша добровольная пожарная бригада не ограничивается духовым оркестром. Помимо него пожарники содержат джазовый оркестр, оркестр танцевальной музыки, камерный оркестр и григорианский хор. Пожарники также являются хранителями одного из самых омерзительных социальных обрядов в Португалии – праздника забоя свиней.
Взамен освобожденных ими рабов арабы покупали других у торговцев из Северной Европы и у местных пиратов, промышлявших похищением людей на море. С первой волной таких рабов в Португалию попали славянские пленники, захваченные германцами во время походов на Восточную Европу. Славянские женщины приобретались для гаремов за самую высокую плату. Некоторым мужчинам-славянам удавалось добиться благосклонности и высокого положения при дворе халифа. В правление Абд ар-Рахмана III славян стало так много, что арабы начали применять термин «слав» ко всем иностранцам европейского происхождения, а арабский правитель красил волосы в черный цвет, чтобы – упаси Аллах – его не перепутали со славянином. Других рабов привозили из Южной Италии, Бельгии и Франции. Последняя служила основным источником евнухов для пополнения штата гаремов [3], а ключевым перевалочным пунктом для торговли мальчиками, предназначавшимися для этой цели, был Верден.
В числе инноваций, которые арабы принесли в города, можно назвать школы – нередко бесплатные – а также университеты, которые опередили первые европейские университеты на несколько сотен лет. До арабов практически единственными, кто умел читать и писать, были священники и члены религиозных орденов: даже короли и аристократы не утруждали себя овладением навыками грамоты. Арабские правители Южной Иберии поставили себе цель добиться массовой грамотности. В школах, разумеется, учили читать и писать на арабском, на котором также велось преподавание математики, истории и географии. Это вызывало негодование среди старших поколений иберийцев, которые владели латынью. Памфлет под названием «Indiculus luminus», датируемый 854 годом, сетует на то, что «наши молодые христиане со своими элегантными манерами и плавными речами буквально опьянены арабским красноречием. Они охотно пожирают и обсуждают книги магометан, расхваливая их с риторическим пылом, но при этом не знают ничего о красоте собственной церковной литературы. Христиане так мало знакомы со своим законом и обращают так мало внимания на латинский язык, что едва ли найдется хоть один из их сотни, кто мог бы написать простое письмо, чтобы осведомиться о здоровье друга, на ином языке, чем арабский».
Эти городские христиане с арабским образованием, которые не отказались от своей религии, во многих случаях не только приняли арабский в качестве основного языка, но и переняли арабское платье, диету, культуру – практически весь образ жизни, кроме Ислама. Их называли «мосарабы» [4]. Евреи, которые пользовались среди арабов уважением как «народ Книги», адаптировались аналогичным образом; многие из них – как их христианские современники – стали знаменитыми арабскими учеными.
К концу эпохи Абд ар-Рахманов в начале XII века аль-Идриси – знаменитый арабский географ – путешествовал по землям, которые сегодня образуют Португалию. Именно из его работ нам известно все, о чем написано выше. Аль-Идриси обнаружил шахты, которые – как и многое другое – были заброшены в эпоху визиготов. Арабы расширили и углубили эти шахты. Рабочих они делили на группы, одни из которых копали, другие плавили породу, третьи добывали ртуть. Последняя применялась – по крайней мере, частично – для заполнения декоративных прудов.
В регионе Лиссабона фермеры хвастались аль-Идриси, что с арабских пород пшеницы здесь собирают урожай уже через сорок дней после сева. На юге раскинулись прекрасные сады «нежнейших и вкуснейших фиг».
Аль-Идриси отмечал, что в регионе развился собственный узнаваемый и приятный архитектурный стиль, объединивший арабские знания математики и местную эстетику. Характерными для этого стиля были подковообразные арки, декоративная лепка и изразцовая плитка. Керамика, стеклоделие и металлообработка получили высокое развитие. Как вскоре выяснили христиане-крестоносцы, Лиссабон и другие главные города не только обеспечивались водопроводной водой, располагали общественными банями и канализацией, но были прекрасно укреплены.
Сетубал – город к югу в дельте реки Тежу – был окружен сосновыми плантациями, которые обеспечивали сырьем процветающие городские верфи. В Коимбре аль-Идриси хвалебно отзывался о садах на берегу реки Мондегу; на момент написания этой книги – 1996 год – эти сады восстанавливают. Аль-Идриси писал, что к северу от реки обитали племена промышлявших грабежом всадников. Вскоре эти всадники – с помощью Франции и Англии – завоют страну. Во имя Христа они займутся систематическим разрушением того, что арабы создавали на протяжении четырех столетий – зданий, художественных произведений, систем орошения, ветряных и водяных мельниц, складов и судов. Разрушения носили такой масштабный характер, что сегодня часто говорят, что были стерты практически все следы арабского влияния. Как мы продемонстрируем дальше, к счастью это не так.
Здесь нужно указать на различие терминов «арабоязычный» и «арабский», поскольку многие достижения – например, в медицине, философии и образовании – принадлежали арабоязычным иудеям и христианам, работавшим вместе с мусульманами или под их эгидой. Под властью королевской и ученой династии Абд ар-Рахманов в Южной Иберии последователи всех трех религий успешно сотрудничали, создав более высокоразвитое в области искусств и технологий общество, чем любое существовавшее на тот момент в западном полушарии.
Сегодня, когда термин «мусульманский» нередко ассоциируется с понятиями «терроризм» или «фундаментализм», либо применяется в качестве синонима реакционного движения против прав женщин и свободы речи, нужно с благодарностью вспомнить о мусульманском влиянии на западную цивилизацию, которое пустило корни в Южной Иберии, распространяясь оттуда на север Европы. В Сантареме в Центральной Португалии идет восстановление мечети, которая свыше семиста лет не применялась по назначению – вместе с синагогой и монастырем Святого Франциска. Здесь – как и в Испании – среди католиков, евреев и мусульман зарождается движение, направленное не просто на пропаганду религиозной терпимости, но и на то, чтобы заново испытать тот синергетический подъем, интеллектуальный и культурный динамизм, который когда-то ощущался в этом регионе.
Именно в Кордове было обнаружено существование нуля, что привело к возникновению математики, а затем архитектурных расчетов, которые в свою очередь позволили возводить высокие сводчатые сооружения. Эти и другие арабские архитектурные технологии пережили изгнание арабов и остались у обученных арабами христиан. Сегодня их можно изучать по Национальному Дворцу Синтры или по еще более экзотическому монастырю в Баталье.
Медицина достигла новых высот. Уход за ребенком с момента зачатия до полового созревания стал отдельной отраслью медицинских знаний. К средине X века Ариб бин Саид завершил работу над важнейшим учебником по гинекологии, эмбриологии и педиатрии. Эта работа открыла новую главу в развитии медицинской науки, так как основывалась на клинических наблюдениях за больными и исследованиях патологий, а не на теории Гиппократа и иных абстрактных греческих учениях. Стремительно накапливались эмпирические знания о влиянии окружающей среды и питания на здоровее человека. Разрабатывались новые хирургические методы и инструменты, которые применялись в Западной Европе вплоть до XVI века.
Прошло уже немало лет после изгнания арабов из Португалии, когда Пётр Испанский – сын еврейского доктора из Лиссабона – перевел на Латынь свое суммарное изложение сохранившихся арабских медицинских текстов (некоторые из которых были написаны врачами иудеями и христианами). Он опубликовал их под заголовком «Thesaurus Pauperum» – «Сокровище бедняка»: любой мог свериться с этим медицинским справочником, даже если не мог позволить себе оплатить прием у врача.
Педру или Пётр Испанский в конце концов стал в 1276 году первым и единственным Римским Папой португальского происхождения под именем Иоанн XXI. Через считанные месяцы после его избрания, Педру погиб, когда не него обрушился свод построенной по его приказу библиотеки в папском дворце Витербо на севере Рима. Эта трагедия произошла после обмена резкими письмами с Королем Португалии, в которых обсуждалось, должна ли Церковь подчиняться Государству или наоборот. Многие подозревали, что «несчастный случай» устроили по монаршему заказу.
С изобретением печати «Сокровище бедняка» перевели и опубликовали на большинстве европейских языков. Оно продолжало оставаться стандартным медицинским справочником на протяжении целых двух столетий после гибели Педру. Он также написал трактат о безумии, предположив, пожалуй, впервые в письменной форме на ином языке, чем арабский, что безумие – не знак того, что в человека вселились бесы, а заболевание, которое нуждается в клиническом лечении. За этим трактатом последовала новаторская работа Святого Иоанна Божьего Португальского, которая 500 лет назад превратила психиатрию в медицинскую науку. Святой Иоанн Божий по-прежнему пользуется уважением среди психиатров как первый представитель этой профессии.
Арабы принесли с собой с Ближнего Востока работы древнегреческих философов, ранее неизвестных в Западной Европе, в арабском переводе. Здесь их снова перевели – уже на латынь. На этой почве Пётр Испанский – еще до того, как он стал Папой Римским – прекрасно потрудился, предложив новаторскую интерпретацию аристотелевской теории логики. Эта работа оставалась важной еще долго после окончания эпохи средневековья. Сочиненные Пётром краткие вирши, позволяющие запоминать модусы аристотелевской логики, по-прежнему преподают детям на уроках философии, которая входят в обязательную программу обучения в португальской средней школе.
В следующей главе рассказывается о том, как арабов изгнали из Португалии, а через 250 лет после этого, наконец, и из Испании. Для нас здесь важно то, что несмотря на все попытки вытеснить их, арабы оставались в Альгарве еще целое столетие после их изгнания из остальных частей страны.
Название Альгарве происходит от арабского слова «аль-гарб», что означает «запад». Столица Аль-Гарве – Шелб (сегодня Сильвеш) – расположенная к северу от побережья на реке Араде, превратился в центр арабской культуры международного значения. В одиннадцатом веке сюда перебирались с востока ученые, писатели, исполнители и музыканты – из таких удаленных мест, как Багдад и Йемен. Лингвистическая чистота и выразительность арабского языка, на котором говорили и писали в Шелбе, славилась даже в Аравии, где город был известен как «Багдад Запада».
Мухаммад Ибн Аммар – знаменитый поэт – был правителем Альгарве, который управлял провинцией в золотую для нее эпоху. Он родился в Альгарве в семье, переехавшей сюда из Северной Африки. После школы Ибн Аммар обучался мастерству художественного письма в специальном институте. Его родители не могли содержать его. Арабские хроники повествуют о том, как Ибн Аммар сочинил поэму, посвященную освобождению Шелба от берберских налетчиков в 1040 году арабским войском под предводительством принца аль-Му’атамида из Севильи. В реальности командование принца было чисто номинальным, поскольку в тот момент ему было всего одиннадцать лет. Принцу очень польстила эта поэму. Он купил ее за большую сумму денег и приказал устроить встречу с автором. Когда встреча произошла, принц страстно влюбился в поэта.
Аль-Му’атамиду в это время было двенадцать лет. Отец провозгласил его Правителем Севильи. Одним из первых указов принца по вступлению в полномочия было назначение Ибн Аммара, поэта, на должность главного визиря. Принц и поэт вместе прибыли в Альгарве, где они проехали по улицам Шелба во главе многолюдной триумфальной процессии. Свою карьеру визиря Ибн Аммар начал с того, что вернул старый должок. Много лет назад он написал поэму и послал ее одному из богатейших купцов города, умоляя того дать ему еды, чтобы утолить голод. Купец послал Ибн Аммару мешок ячменя, который считался кормом для скотины. Став визиром, Ибн Аммар послал купцу мешок такого же размера, только наполненный серебром. В сопровождавшей записке говорилось: «Если бы ты послал мне пшеницу, когда я голодал, в этом мешке было бы золото».
В описаниях города Шелба, достигшего небывалого процветания при новых властителях, упоминается богато украшенный базар, где продавались предметы роскоши, привезенные с Ближнего Востока и из Азии – шелк, стекло, парфюмерия, специи, филигранные работы из золота – а также декоративные розовые сады, разбитые на берегах реки, и высящиеся друг над другом дворцы на горе. На самой вершине горы раскинулся сказочной красоты Дворец с верандами. Здесь королевский двор собирался на концерты и для чтения поэзии, танцев и банкетов с вином. Мусульманский запрет на употребление алкоголя был ослаблен в Альгарве. Когда раздавался призыв к вечерней молитве, Принц и поэт рука об руку шли в мечеть, на ходу предаваясь поэтическим импровизациям. Вот одна из таких бесед, записанная современниками:
Принц: Ты слышишь, как муэдзин призывает людей к молитве?
Правитель: И надеется, что Аллах простит ему его многочисленные грехи.
Принц: Да простит его Аллах за то, что он произносит истины.
Правитель: Если в сердце своем он верит в то, что глаголит его язык.
Отец принца – правитель Севильи – был возмущен увлечением сына и его сожительством с Ибн Аммаром. Он приказал отправить поэта в ссылку в Сарагосу на севере Испании. Принца он вызвал в Севилью и велел немедленно жениться. Принц купил молодую рабыню и взял ее в жены. О жене принца сохранилось два исторических анекдота, которые заставляют задуматься, кто из них в действительности был рабом.
В Андалусии нечасто идет снег. Когда наступила необычайно холодная зима, и снег все-таки пошел, жена принца окинула взором покрытые снегом окрестные холмы и зарыдала. «Я плачу из-за твоего эгоизма, – заявила она мужу, – Почему ты не мог раньше сделать так, чтобы зимой падал снег?» Рассказывают, что принц немедленно велел засадить склоны холмов миндалевыми деревьями, чтобы они каждый год укрывали холмы «снегом» из своих белых цветов.
Второй исторический анекдот повествует о том, как принц с супругой проезжали в карете мимо стройки, на которой босоногие девочки-рабыни месили глину. Глина шла на изготовление кирпичей. Принцесса разрыдалась от зависти и пожаловалась мужу, что жизнь в королевском дворце кажется ей слишком одинокой. Она истосковалась по тем денькам, когда сама топтала с подружками глину. Принц приказал заполнить внутренний дворик дворца тростниковым сахаром и специями и разбавить эту смесь розовой водой, чтобы принцесса с фрейлинами могла топтать такую «дизайнерскую грязь» на радость своего женского сердца.
Отец Принца Му’аттамида скончался, а тот, взойдя на трон, отправил жену восвояси. Принц снова призвал Ибн Аммара и назначил его Правителем Альгарве.
Крестоносцы, решив развлечься по пути в Святую Землю, поплыли вверх по реке Араде. Их встретило португальское войско, подошедшее по суше, под командованием епископов Лиссабона, Коимбры и Порто. Вместе они осадили город Сильвеш и взяли его штурмом.
Португальские епископы довольствовались тем, что город был взят. Король Ричард и его армия – в благодарность за то, что свернули с намеченного пути, получили право грабить и разрушать город. Они подошли к делу его уничтожения с такой основательностью, что от города осталась одна соборная мечеть. Епископы освятили ее, превратив в собор, а отец Николай – фламандский священник, пришедший с крестоносцами – стал его епископом.
Арабский поэт из Альгарве Аль-Лаббан писал:
Мы – шахматные фигуры в руках фортуны.
И король может пасть перед простой пешкой.
Не стоит хвататься за этот мир
И тех, кто в нем живет –
– Ибо этот мир может быть навсегда утерян
Вместе с теми мужами, кто достоин этого имени.
[1] В этой главе автор путает довольно важные детали. Муса ибн Насир (а не Нассер) был не халифом, а наместником Северной Африки в эпоху правления омейядского халифа аль-Валида ибн Абд аль-Малика. Именно он направил на завоевание Испании войско, сформированное из берберов. Утверждают, что Муса обрушился на Иберию, чтобы отвести разрушительную энергию берберов от покоривших их арабов, направив ее на другой народ [Примечание переводчика].
[2] Ибн Бассал (بصَّال) – в Иберии нередко «Ибн Бассо». Автор ошибочно называет его «Ибн Аль-Басаал» [Примечание переводчика].
[3] Какой англичанин упустит возможность поглумиться над французскими евнухами! [Примечание переводчика]
[4] Португальский: moçárabes [муса́рабиш] от араб. «мустаʿа́риб», «арабизированный» [Примечание переводчика].
Здесь можно посмотреть небольшие видео лесных пожаров в Португалии:
Продолжение читайте здесь.



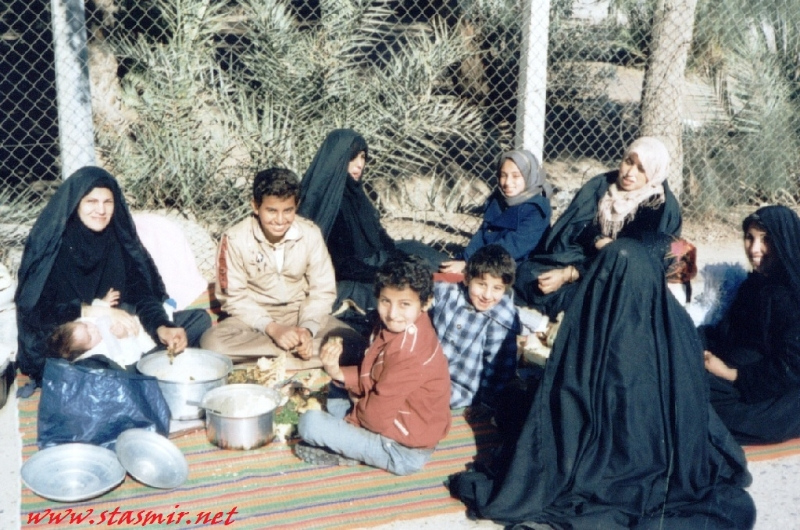











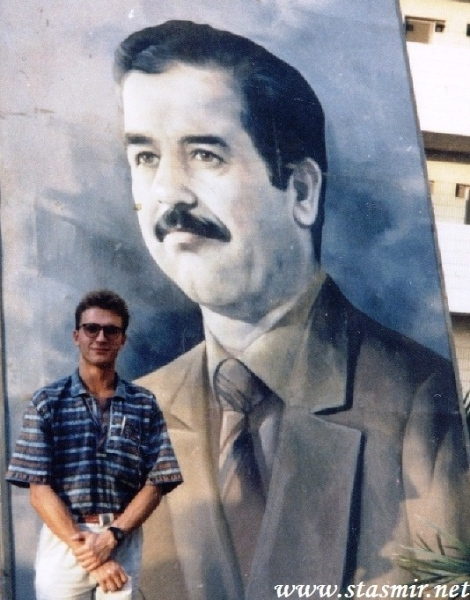
ап.Павел был сборщиком налогов – новый факт биографии?
это в оригинале у Аль-Лаббана фортуна играет в шахматы?
Спасибо.
Нет, про Фортуну и аль-Лаббана не знаю: каюсь. Что-то вспоминается про черного рыцаря (коня) и фортуну у Чосера. Вся евро-рыцарская шевальерия, разумеется, восходит к крестовым походам и кодексам поведения христианских и мусульманских рыцарей, но как точно какие элементы передавались – не изучал.
Вы правы: я удалил про сборщика налогов. Ересь какая-то получилось: что-то насчет штопания шатров в биографии Саула было, а вот налоги – скорее Матвей. Мне почему-то запомнилось, что по дороге в Дамаск Саул вез какие-то деньги, а на самом деле вроде бы христианских пленников. Тогда не очень ясно, что хотел сказать автор. Может быть то, что до обращения в Апостолы он не бедствовал, но, начав странствовать и проповедовать, отказался от денежных вознаграждений?
Про Лаббана сходу не помню… Надо подумать…
Саул- царь, а Савл – тот, кто стал ап. Павлом. Автор скорее спутал его с другим евангельским персонажем – Закхеем, например. Были и другие мытари.Ну да ладно. Павел и до и после в финансовом плане был независим.