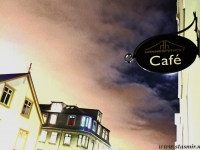Иногда мне кажется, что Рейкьявик – это самое одинокое место на земле, а иногда – что он вздымается вечнозелеными возможностями, как грудь миловидной валькирии. Мое восприятие зависит от времени года и погоды, а также от того, насколько удачно я устроился в этом очаровательно нелепом городишке. Сто евро в сутки в платяном шкафу с беспокойными соседями по вешалке, и динамика воспоминаний срывает меня в состояние бесправной нищеты на «острове невезения». Комната с видом, причем в таком месте, где ветер с градом не лупит в окно, а соседи не «гуляют» каждую ночь – и в душе набухает исландская мантра «Þetta er allt að koma»: все сложится.
Уже складывается. Я убежден, что причина баснословного исландского долголетия кроется именно в убеждении, что беспощадный шторм неминуемо закончится, а осколки нелегкой судьбы, снесенной с подоконника очередным шквалом, сложатся в изысканный орнамент счастья – личное к профессиональному, духовное к материальному, кармическое к механическому. Для исландца каждый день – новая точка отсчета, и начинать заново никогда не поздно.
Надежда на острове не струится жалким ручейком, а низвергается бушующим водопадом, либо накрывает штормовой волной. Если бы меня попросили написать эпитафию к Исландии, как я ее помню до кризиса, я бы перефразировал известную песню Брайана Мэя, посвященную Фредди Меркьюри: «Too much hope will kill you». Избыток надежды убивает.
«Þetta er allt að koma» – не только жизнеутверждающий исландский афоризм, но еще и название одного из романов исландского писателя Халлгримура Хельгасона. Всемирную известность последнему принесла книга «101 Рейкьявик», успешно экранизированная и переведенная на русский язык. Прогуливаясь недавно по зимнему Рейкьявику, я вдруг вспомнил прочитанное еще год назад обращение Халлгримура к скандинавским архитекторам в датском центре современного искусства «Луизиана». Вначале я хотел взять у автора лишь пару цитат, дабы придать вес собственным рассуждениям, но увлекся и перевел всю речь целиком. Перевел весьма вольно. Вот, что получилось.
«Архитектура – это кожа общества. Люди склонны забывать об этом. И это неудивительно. Ведь есть части тела поважнее, – скажите вы – такие как сердце, мозг, гениталии. Но без кожи далеко не уйдешь. К тому же кожа – наш самый большой орган, и большинству из нас хотелось бы, чтобы она была здоровой.
1.
В молодости у меня были проблемы с кожей. Лицо покрывали угри. Схожая проблема была у моей страны. Исландия страдала кожным заболеванием, которое называется «ужасная архитектура» или «архитектурно-угревая сыпь». Мы привыкли жить с этой болезнью. Настолько свыклись с ней, что когда я впервые отправился за рубеж выгулять свои прыщи в Норвегию, я испытал дискомфорт: все дома в Норвегии, как один, были такими красивыми. В самом глухом лесу вдали от цивилизации норвежский фермерский дом выглядел по-скандинавски великолепно. Смотришь – и сердце поет: классический деревянный дом с высокой псевдо-соломенной крышей, красными стенами и белыми окнами.
И бог мой, какими окнами! Все одинаковой формы, с деревянными рамами, окна поделены на равные квадраты в соответствии с принципом золотого сечения – «det gyldne snit». Все в золотой традиции скандинавской фермы. Открывая Скандинавское Окно с Большой Буквы, я чувствовал себя так, как будто попал внутрь полотна Эдварда Мунка. Всунул голову в картину, и меня обрамило красотой.
У себя в Исландии я мог открыть лишь крошечную форточку в современном прямоугольном окне, при этом приходилось бороться с ветром. Жизнь в Исландии научила нас, что открывать все окно целиком – все равно, что распахивать дверь автомобиля на скорости 90 километров в час. Это знают даже наши архитекторы. Но они до сих пор не поняли многого другого. Исландская архитектура была ОК, пока ею занимались датчане. Они построили центр Рейкьявика в девятнадцатом веке и в начале двадцатого. Самые живописные из наших деревушек пестрят чудными «норвежскими домиками». Первые поколения исландских архитекторов обучались своему ремеслу в Дании, и лишь после Второй мировой войны направились учиться в Испанию, Соединенные Штаты, в Мексику… на Луну. Вот тут-то и начались наши проблемы. Наши города поразило заболевание – архитекутрно-угревая сыпь.
2.
Вначале появились плоские крыши. Они неплохо смотрятся в Гвадалахаре, но в гипер-дождливом Рейкьявике в каждом из таких домов образовалось по бесплатному бассейну – на крыше. Мое детство полно воспоминаний о том, как мои родители и их друзья решали проблему вечных протечек с крыш.
Затем в моду вошли похожие на бункер пригородные виллы. Их строили одноэтажными и прятали за живые изгороди. В стране невероятно красивых ландшафтов наши архитекторы вдруг начали проектировать дома, похожие на гаражи со стеклянными воротами: все, что мы видели из гостиной, это кусты, да заднюю стенку следующего «гаража».
Я вырос в сверхсовременном микрорайоне: когда мы переехали, цемент еще не просох. Я так и не смог полюбить нашу стерильно-белую четырехэтажную многоквартирку. Здание выглядело морозно – как холодильник с окнами. Будто в Исландии мало холода! А офисный блок через дорогу напоминал горку музыкального оборудования. Вот такое у меня было детство – «за плинтусом» между холодильником «Danfrost» и стереосистемой «Marantz»».
3.
Еще одним симптомом болезни стал некрашеный цемент, вошедший в моду в семидесятых. Как будто у нас не хватает некрашеного камня! Весь наш остров подобен одному большому некрашеному камню. Мы до сих пор не совладали с этим симптомом поразившей нас архитектурной болезни. В последние годы мы построили множество черных зданий. Черные здания в самом темном уголке планеты? Скажем прямо: не лучшая из идей.
Еще одна проблема – это отражение авторского «я» в архитектуре. Поймите меня правильно: отражение авторского «я», безусловно, хорошая штука, если это «я» зовут, скажем, Алвар Аальто. А вот если архитектора зовут Гудбрандюр Сигфинссон, да к тому же он вовсе не архитектор, а «технолог», то хочется пожелать, чтобы он как можно меньше отражал свое «я» в своих творениях.
В нашей стране авторское «я», слава Богу, отразилось в основном при сооружении церквей. В добрые старые времена в Исландии была всего одна разновидность церкви. Сегодня на острове насчитывается 167 типов церквей, при этом многие из них вообще не похожи на храм божий. В Исландии имеются церкви типа «Вигвам индейца», «Полбулки хлеба», «Лыжный трамплин», «Дача с крестом на крыше и витражами» и «Мобильная взлетная площадка НАСА, упавшая на бок в ходе пуска космического челнока и выкрашенная в белый цвет».
Как будто наши архитекторы решили испытать любовь к нам Господа. «Ребята, построим Богу самые уродливые храмы на земле, чтобы проверить, любит ли он исландцев». Если Вы поклонник странной архитектуры, приезжайте в Исландию и купите тур по современным исландским церквям. Это самый дорогой бал уродов на земле, причем оплаченный исландским государством».
4.
Но худшим симптомом нашего кожного заболевания стало то, как мы спланировали единственный большой город на острове. Всего за пятьдесят лет Рейкьявик прошел нелегкий путь от милого портового городка до бетонного монстра, опоясанного автобанами, как матрос с «Авроры» пулеметными лентами. Копенгаген планировался под Париж, и по-прежнему выглядит, как Париж, выполненный в красном кирпиче, в то время как Рейкьявик похож на Рённе на острове Борнхольм (Rönne på Bornholm), который со всех сторон обступил невесть откуда взявшийся Лос-Анджелес. Я не шучу. Рейкьявик – самый раскиданный по территории город на планете. Одно из главных достижений современного городского планирования – это заставить жителя города с населением всего в сто тысяч человек проводить в среднем по часу в день в автомобиле.
Это случилось потому, что во второй половине двадцатого века мы приняли правило: между домами должно быть не меньше 30 метров, от двери до улицы – 30 метров, каждая квартира должна иметь 30 парковочных мест, а каждый новый микрорайон должен быть окружен автобаном. Самые счастливые жители Рейкьявика – это азиаты со странными фамилиями: Тойота, Хендай, Киа и Митсубиси. Раньше они нам нравились, но сегодня половина наших зарплат уходит на то, чтобы покупать им выпивку. И каждый мечтает сменить автомобиль на велосипед. Но если Рейкьявику суждено действительно стать раем для велосипедистов, то в нем должно стать немного теплее. Именно поэтому мы не вылезаем из автомобилей, чтобы ускорить глобальное потепление и помочь велосипедистам будущего.
5.
Подобно другим народам, мы пережили «атаку гипермаркетов». Гипермаркеты ничем не отличаются от черепашек-ниндзя из космоса. Они удобны для тех, кто находится внутри них, но для всех остальных они просто… гигантские космические черепахи. Гипермаркетам, кстати, пошло бы на пользу, если бы в ходе их проектирования хоть кто-нибудь выразил хоть какое-нибудь «я». Но те архитекторы, которые их создают, так заняты интерьерами, что вообще не думают, как эти монстры выглядят снаружи. Наверное, потому, что творят во славу Слепого Бога, известного как Мамон.
6.
Пережили мы и нашу долю международного архитектурного психоза, именуемого «вестибюлизмом». Вестибюлизм расцвел пышным цветом в восьмидесятые и девяностые, и вы по-прежнему можете наблюдать его плоды в любом городе. Вестибюлизм рождается в тот момент, когда появляется необходимость в реконструкции старой библиотеки или музея изобразительных искусств, либо когда принимается решение о превращении отслужившей свое рыбной фабрики в краеведческий музей. Старое здание в целом недурно, но нуждается в ремонте, вот только вход в него совсем никудышный. Нужно только встроить новый парадный подъезд, вестибюль, раздевалку, магазинчик или кафетерий. Я уж не знаю, в чем тут дело, но в наше время самое важное – это вход: то, как вы входите, какое первое впечатление производите. Итак: вы ремонтируете одряхлевшую рыбную фабрику и встраиваете новый вестибюль, сооруженный из стекла, стали и мрамора. В любом городе мира можно найти старое сооружение с недавно наросшей стеклянной коробкой на фасаде. Можно набраться смелости и утверждать, что расцвет вестибюлизма в архитектуре идет параллельным курсом с триумфальным маршем пластической хирургии. Реконструированные старые здания с «навороченными» входами напоминают пожилых дам с обколотыми силиконом губами: обновленный вход в подгнившее тело.
Национальная Галерея Исландии – классический пример вестибюлизма. В 1987 году она переехала в рыбную фабрику. Газеты того времени жаловались на дороговизну проекта. Сам выставочный зал довольно прост, но его лобби являет собою фиесту из белого мрамора, стекла и позолоченных перил. Лифт оказался самым роскошным на острове. Мне кажется, что это объясняется творческой завистью. Архитектор завидует художнику – чертовому иждивенцу, которому не нужно вставать каждое утро на работу, но которому достается внимание и обожание масс. Проектируя музей изобразительных искусств, архитектор делает все в своих силах, чтобы отвлечь внимание посетителя от художественных работ и привлечь к собственному творению. Примеров тому немало: если Вам приходилось бывать в Музее Гуггенхайма в Нью-Йорке или Бильбао, либо в Кунстхаусе в Граце, известном как «Дружественный Инопланетянин», Вы поймете, о чем я говорю. Я был во всех этих музеях, но мне не запомнился ни единый экспонат – только сами здания.
7.
Здесь в Луизиане как раз обратная картина: в памяти остаются выставки, но не здание. Тут даже не продается открыток с видами здания! Не удивительно, что сам музей непросто отыскать, когда приезжаешь в Хюмлебек. Когда думаешь о Центре Луизиана, возникает лишь умственная картина длинных стеклянных коридоров и кирпичной стены. Замечательно, но у меня – исландца – проблема с кирпичным стенками. Если честно, то я их не перевариваю. Почему – спросите Вы? Да потому, что кирпичные стены выкладываются с такой заботой и терпением – кирпич к кирпичу. При этом предполагается, что они простоят тысячелетия. Это так не по-исландски: у себя на острове мы привыкли строить дома за ночь и сносить на следующий день. Швейцарский художник Дитер Рот так высказался о Рейкьявике, в котором прожил некоторое время: «Он напоминает временное поселение. Выглядит так, как будто жители не собираются в нем оставаться дольше, чем на пару лет!». Дитер Рот попал в яблочко. Исландцы всегда готовы к тому, чтобы переехать. Именно поэтому мы не любим красивых и завершенных городов, основательных строений и кирпичных стен.
Мы в Исландии настолько привязались к уродливым зданиям, что когда встречаемся с абсолютной гармонией, нас начинает тошнить. Меня всегда тянет домой после прогулки по пряничным городкам Стокгольмского архипелага, а на Фарерских островах я чувствую себя так, как будто меня заперли в одном большом музее архитектуры! В Торсхавне все дома сооружены в традиционном стиле – и те, что построены в 1955 году, и те, что появились в 2005. Подобное окружение навевает депрессию на исландца: нам не нравится, когда что-то чересчур красиво. Мы чувствуем себя недостойными красоты. Нам становится не по себе, если в ландшафте не наблюдается хотя бы один угол уродливого стадиона, либо кусочек безобразного разгрузочного дока магазина строительных товаров, построенного так неряшливо, что ему не простоять и пару недель. Всего неделя пребывания в прекрасном Осло-фьорде, и любой исландец становится похожим на картину «Крик» Эдварда Мунка!
8.
Давным-давно наша архитектура знавала лучшие времена. Но мое поколение росло, ненавидя каждое новое здание, которое появлялось в городе. Они все выглядели как стереосистемы, снабженные окнами. И хотя подобные здания еще строят (несколько лет назад в Рейкьявике соорудили высотное здание, похожее на мой старый усилитель «Bang & Olufsen», поставленный «на попá»), возникают и здания, которые в целом нравятся людям – например, концертный зал «Харпа», Мэрия Рейкьявика или здание Верховного Суда. Сегодня у нас есть неплохие архитекторы, но всех наших проблем это не решает. Плохие архитекторы никуда не денутся, и их неминуемо будет больше, чем хороших. Но мы хотя бы научились обращаться с материалом. Потратив полвека на баловство со стеклом и бетоном, мы стали обращать внимание на мелкие детали. И хотя мы по-прежнему строим плоские крыши, они хотя бы больше не протекают.
Думаю, что за это надо поблагодарить скандинавское влияние. В мои молодые годы скандинавские иконы – такие как «Fjällräven», «Fleksnes» или Ким Ларсен – не пользовались популярностью в Исландии. В то время считалось, что все скандинавское – для «ботаников». Мы не хотели испытывать на себе влияния наших скандинавских родственников. Но потом все скандинавское начало входить в моду. И теперь мы смотрим сериал «Borgen» и ходим в ресторан «Noma», следим за карьерами Хенрика Ларссона и Лорин. Мы прошли немалый путь горами и лесами, оказавшись, наконец, в городе, где научились понимать городской шик. Если вы много летаете по миру, то согласитесь со мною, что самый стильный аэропорт в мире – это Гардемоен в Норвегии, где воплощены наиболее новаторские решения и установлено современнейшее оборудование. Когда-то скандинавы ощущали себя деревенщиной в большом мире, но сегодня все иначе. И пусть порой мы еще слышим старые голоса, которые утверждают, что мы – всего лишь горстка бесполезных маленьких стран, до которых никому нет дела. Те, кто так говорят, забывают о том, что в нашем мире размер по-прежнему имеет значение, только наоборот: сегодня чем Вы меньше, тем лучше для Вас. Четыре малых народа и четверка микроскопических стран – это именно то, что нужно для будущего, полного айпадов и нанотехнологий. Маленькой стране легче получить признание. В этом смысле крошечная Исландия всегда будет шустрее гигантского Китая.
9.
Новый тип скандинавской «крутизны» уже народился. Остается только вытащить ее из коробки и поставить на прилавок. Вовсе не обязательно, чтобы крыша была плоской: она может быть обтекаемой! Похоже, что органические и гнутые линии – это «писк» завтрашней архитектурной моды. Когда скорость течения нашей жизни ускоряется до 90 километров в час, нужны именно такие линии. В будущем все дома будут похожими на автомашины! И тогда настанет ваша очередь, господа, поучиться у исландцев: ведь никто лучше нас не знает, как создать город для машин, как строить одноразовые дома и как открывать двери на скорости 90 километров в час».
Я согласен с «предыдущим оратором» практически во всем, только не разделяю его энтузиазма по поводу «айпадов». Не могу найти ничего прекрасного в будущем, где все, не переставая, возюкают грязными пальцами по засаленным экранам этих бесполезных устройств. Мне всегда казалось, что чем беднее страна, чем хуже в ней экология и качество жизни, тем выше число «айпадов» на душу населения и людей, страдающих цифровой зависимостью. Если не верите, взгляните на индийцев или китайцев, либо проедьтесь в московском метро.
В остальном разделяю убеждение автора, что жизнь устроена лучше в компактных странах, чем в крупных. Эпоха неповоротливых больших держав закончилась в прошлом веке. Настало время маленьких, ловких и проворных. Юрких футболистов-латиносов среди рослых североамериканских хоккеистов. Щуплых гибких каратистов среди накачанных амбалов. Разделяю, но с осторожным оптимизмом. Потому что оптимизм исландца, как правило, неуемен и чуть самоубийственен. Может быть, именно неуемный исландский оптимизм и привел к тому, что Рейкьявик вырос в этакий Доусон Сити – городок золотоискателей, готовых сорваться и ломануть на новый прииск?
Я прогуливался по Рейкьявику январским вечером с фотоаппаратом, который, кажется, научился ставить на ночной режим съемки. Мне пришло в голову, что последним «трендом», поразившим исландскую столицу, стал «дизайнеризм». Еще до кризиса в ней появились дизайнерские монстры, вроде отеля «101 Рейкьявик». Ванная посреди комнаты, установленная под кривым углом, стеклянные стены душевой кабинки, черно-белый интерьер, кран душа, выполненный так хитроумно, что на его открытие уходит не менее получаса – вот обязательные атрибуты дизайн-отеля не только в Исландии, но и в других странах. Не всегда удобно, но дорого, жаль только, что недешевая дизайнерская сантехника бесстыдно соседствует с грошовым бумажным плафоном из «Икеи».
При сегодняшнем артистичном мэре в Рейкьявике расцвели менее дорогостоящие и нередко остроумные проявления нового хипового «дизайнерризма» «а ля Вольный город Христиания»: художественное граффити, покрывающее стены домов, вазоны и скамейки из перекрашенных строительных поддонов, разноцветный кубизм из каких-то подручных досок и огрызков, голографическая пленка, покрывающая изъяны фасадов старых домов. Предпринимаются, наконец, и робкие попытки «пешеходизировать» и «велосипедизировать» построенный для автомобилей город, которые обрекают на неудачу стабильно скверная погода и огромная площадь Рейкьявика – 1060 квадратных километров.
Меняющийся Рейкьявик мне в целом нравится, но за спешно «обдизайненными» фасадами прячутся абсурдные внутренние дворики с замысловатыми деревянными этажерками, бомжеватыми домиками-сараями размером с собачью будку, собачьими будками размером с курятник, неряшливыми горками грязного снега и сломанными детскими игрушками. Похоже, что дети, их разбросавшие, успели вырасти и начать играть в «айпады». Иногда в таком внутреннем дворе увидишь трогательное деревце – как в питерском дворе-колодце. А где-то теснятся странные лестницы, перила и коробы, похожие на голубятни в московском дворике. Вся это живописная разруха находится в разительном диссонансе с огнями магазинов на главной улице или помпезным дизайном многоквартирных башен из черного стекла, которые наступают на старый город из гавани. Раньше сыреющие деревянные дома обшивали рифленым железным листом, сейчас гниющий железный лист красят в яркие цвета или облагораживают дизайнерской пленкой. Рейкьявик, конечно, не Питер, но в ходе прогулки я зарегистрировал ряд досадных потерь, исчезнувших домиков, с которыми у меня были связаны воспоминания.

Во дворе общества советско-исландской дружбы \"Мир\" находился небольшой кинотеатр, где влюбленные исландские парочки нежились на показах \"Броненосца Потемкина\". Тот факт, что именно \"Броненосец Потемкин\" вызывает у исландцев неудержимые приступы \"страсти нежной\", однозначно указывает на то, что они – потомки викингов. Только у викинга кинематографическая сага о броненосце может вызвать желание прижаться к подруге! Сегодня пространство, где находилась советская фильмотека, зият пустотой, как дырка в зубах.

Самый старый дом в Рейкьявике построен в 1764 году. В годы моей молодости в нем был развеселый паб, где было принято танцевать на столах и падать с крутой лестницы под живую музыку. Надеюсь, традиция возродится.

Hegningarhúsið («дом наказания») – самая старая тюрьма в Исландии, гостеприимно размещающая исландцев и иностранцев с жилищными проблемами с 1874 года. Тюрьма состоит из 16 камер и расположена в сердце исландской столицы. Надеюсь, она никуда не переедет, а полиция начнет этапировать заключенных в \"исправительный дом\" на велосипедах!
Из пары дворов меня вежливо шуганули хозяева, напомнив, что здесь у них протекает частная жизнь, которую нельзя фиксировать на фотопленку – виноват, флэшку. Забавно, потому что никакой границы между общественным и личным пространством в городе нет – только «понятия» о том, куда чужаку можно, а куда нельзя.
Я шел и фотографировал. Вспомнил одного американского туриста из моего детства, который при посещении нашей в остальном образцовой школы отбился от группы, чтобы сфотографировать в различных ракурсах поразившую его воображение переполненную помойку посреди школьного двора. Мне тоже захотелось увидеть изнанку дворов, подглядеть, как течет быт рейкьявикчан, через поразительно несимметричные окна с никогда не задергиваемыми шторами. Может после кризиса оптимизма и стало меньше, но Рейкьявик сложен из колец оптимизма прошедших эпох, как Человек Мишлена из шин. Оптимизм его красит и, надеюсь, не убьет. Þetta er allt að koma. У Рейкьявика все сложится.